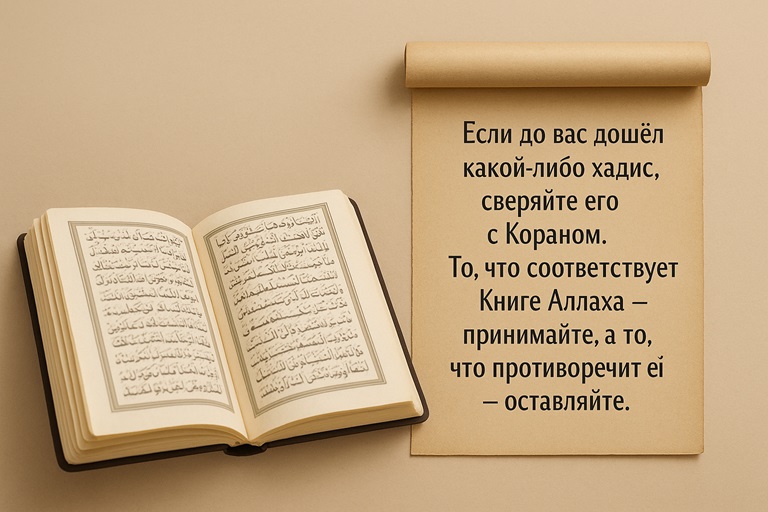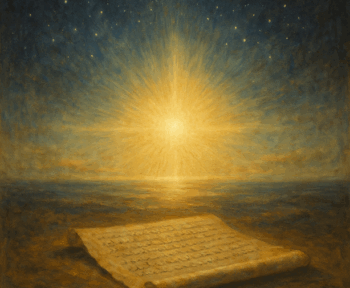Данный очерк является вторым в серии, посвященной кораноцентризму в Исламе, и отражает личное мнение автора, сформированное на основании изучения фундаментальных мусульманских источников, по поводу фактов злоупотребления преданиями и их искажений в интересах определенных групп, равно как и попыток приравнивания хадисов по достоверности к Корану, что, конечно же, как и будет продемонитрировано ниже, противоречит как установкам самой Священной Книги мусульман, так и словам Посланника Аллаха (С), признанным подавляющим большинством мусульман заслуживающими доверия.
Коран, вызывая на диалог невежественных язычников, не сомневается в том, что, подходя к его словам с беспристрастным суждением, искренние из их числа смогут убедиться в его истине, принять ее и постичь, исключительно на основании доводов самого же Корана. Таким образом, представляется в высшей степени бессмысленным возведение самими мусульманами между собой и словами Всевышнего искусственной стены из комментариев (тафсиров) и преданий (хадисов), цементированной раствором из рассуждений богословов, которые, вдобавок, постоянно полемизируют между собой, так и не придя к единой точке зрения ни в теоретических, ни в практических вопросах. Так не лучше ли было бы, восприняв однозначные выводы из Корана как руководство для следования, оставить места, допускающие множественные толкования, на индивидуальное усмотрение верующих, как не имеющие для спасения души принципиального значения?
Типичным примером может послужить продолжающаяся по сей день богословская дискуссия между шиитами и суннитами вокруг аята 5:6, описывающего ритуал омовения перед молитвой и призывающего верующих, в частности, омывать свои руки «до локтей». Приверженцы шиитского течения стоят на точке зрения, утверждающей, что выражение «до локтей» означает лишь границу омываемой поверхности кожи, но не направление движения руки, поэтому совершают омовение рук от локтей по направлению к кончикам пальцев (хотя и при данном подходе выбор противоположного направления нигде не возбраняется). С другой стороны, приверженцы суннитского направления полагают данное выражение указывающим не только пределы зоны омовения, но и направление движения руки при совершении ритуала, и, таким образом, омывают руки перед молитвой от кистей и далее, двигаясь по направлению к локтевым суставам (хотя это толкование не является однозначным, и в шиитском подходе имеется также своя логика). Таким образом, мы имеем дело с типичной неопределенностью, которая, согласитесь, не имеет никакого отношения к духовности и спасению души, а призвана лишь заставить верующих обратить внимание на определенные символические действия, в данном примере – заключающие в себе заповедь о соблюдении внутренней и внешней чистоты. Подобное омовение рук практиковалось задолго до Ислама последователями зороастризма перед каждым из пяти ритуальных намазов и имело также значение сугубо символическое. Сакрализация ритуала омовения в сочетании с излишним вниманием к деталям, на котором не настаивает Коран, лишь уводит верующего в сторону от духовных размышлений и, напротив, наводит на ложные представления о том, что омывший руки несколько отличным образом лишает себя возможности вечного спасения и достижения рая. Сохрани Господь от того, чтобы здравомыслящие люди всерьез допускали подобные мысли!
Ведь, с одной стороны, Господь не спрашивает с живой души за то, что она не в состоянии вместить:
Аят 2:286:
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме того, что она вместит…[1]
С другой стороны, ни одно из современных направлений Ислама так и не сумело представить окончательных и неоспроимых доказательств достоверности своих хадисов, описывающих отдельные детали ритуала поклонения (омовения, молитвы и т.д.).
Таким образом, эти несущественные детали, во-первых, остаются для верующих непостижимыми (ввиду отсутствия непреложных доказательств), и, следовательно, не являются предметом их ответственности, а, во-вторых, будь они хоть сколько-нибудь значимыми, то непременно были бы оговорены в Коране, подобно всем остальным вопросам, относящимся к фундаментальным основам молитвы, поста, нравственности, духовности и т.д.
Однако же, многовековые дискуссии, подобные этой, продолжаются по сей день, предоставляя обильно удобренную почву для сакрализации традиции (сунны), отраженной в преданиях (хадисах), представляя последние едва ли не равными по достоверности Священному Корану, с той лишь разницей, что хадисы, дескать, не имеют смысловых противоречий и искажений, при том, что их формулировки остаются на усмотрение Пророка (С), тогда как Божественное Откровение было продиктовано в неискаженном виде до последней буквы и черты. Достаточно открыть любые сборники «авторитетных» хадисов, чтобы убедиться в наличии там массы противоречий друг с другом, с Кораном и даже с элементарным здравым смыслом.
Пример:
(По различным цепочкам передатчиков, со ссылками в оригинале на разные источники, в рамках комментария к коранической суре «Аль-калам» («Письменное перо») передают со слов Ибн Аббаса: «Поистине, первым, что сотворил Аллах, был калам (письменное перо), и Он сказал ему: «Пиши!» – и тот ответил: «Господи, что мне писать?». Он сказал: «Запиши предопределение всего, что произойдет начиная с сего дня и до того Дня, когда настанет Час (Суда); затем Книга была свернута, калам оторвался (от строки); и пребывал Трон Его над водою. И поднялся водяной пар, и изверглись из него небеса, после чего сотворил Он свет, и распростер землю на нем, земля же (помещалась) на спине Нуна (кита), и Нун вострепетал[2].
В отношении выяснения достоверности преданий с применением методов «науки о передатчиках» («илм-ур-риджал») продемонстрируем неэффективность данного метода для любого логически мыслящего человека.
Итак, метод «илм-ур-риджал» сводится к трем принципиальным моментам:
1) Выяснение характера личности каждого из участников (живых звеньев) цепочки передатчиков преданий (хадисов): насколько те или иные люди заслуживают доверия (в силу своей репутации как ученых и как праведников) с целью установления достоверности всей цепочки, а через нее – и содержания хадиса;
2) Выяснение параллельных цепочек передатчиков хадисов и их числа, с тем, чтобы значительное количество цепочек передачи (иснад) через различное, как можно большее, число передатчиков, в отношении преданий с иденичным или схожим до степени смешения содержанием, могло послужить подтверждением достоверности такого предания (хадис, переданный массой передатчиков – мутаватир);
3) Лингвистический анализ с целью установления принадлежности хадиса к определенной эпохе, которой он приписывается, на основании стилистики, терминологии и т.п., а равно – географический анализ возможности для передатчиков, имена которых стоят в цепочке, контактировать друг с другом и передавать тот или иной хадис.
Ряд вспомогательных исследований носит по отношению к перечисленным производный характер.
Здравый смысл подсказывает, что все эти методы могут оказаться эффективны лишь при установлении заведомо недостоверных преданий, то есть тех, в которых прослеживаются явные анахронизмы, либо же – преданий сомнительных, тех, которые были переданы, по всей видимости, людьми безнравственными и не заслуживающими доверия, при том, что само содержание хадиса на первый взгляд не вызывает особых нареканий[3].
Для установления достоверности хадиса (не говоря уже о том, чтобы поставить его хотя бы близко к Корану в данном отношении) эффективность подобной методики равняется нулю.
Совершенно очевидно, что, скопировав цепочки передатчиков – самых достойных, вне всякого сомнения, людей – в максимально возможном количестве, ничто не мешает следующим шагом приписать им слова, которых никто из них никогда не произносил. В наш век интернета, когда письменные источники, благодаря публикации во всемирной сети, приобрели, фактически, неограниченные тиражи (т.е., с ними моментально может ознакомиться любой желающий из миллиардов людей, населяющих нашу землю), подобную подделку осуществить достаточно трудно (хотя в данных обстоятельствах возможно запустить в интернет параллельную альтернативную версию, и неизвестно еще, какая из них найдет себе больше приверженцев). Однако, в эпоху зарождения Ислама, когда книги, переписываемые от руки, распространялись буквально единичными тиражами (наличие пятидесяти-ста копий можно было считать массовым тиражом по критериям того времени) внесение подобных искажений одновременно с изъятием из оборота достоверных копий по приказу правителей или предводителей различных партий было делом нетрудным, в особенности – за хорошее вознаграждение. Поэтому мы просто обязаны допустить массовое хождение в упомянутую эпоху недостоверных преданий, приписываемых доверенным людям, в дальнейшем – многократно переписанных, заученных, и, наконец, опубликованных в наши дни неограниченным интернет-тиражом, как и вся масса современной литературы. Не стоит и говорить о том, что лингвистический анализ также покажет полное соответствие фальшивых хадисов указанной эпохе (эпохе зарождения Ислама)[4].
Значительно важнее выяснить, кому все это нужно и с какой именно целью. Ответ лежит на поверхности: подобное искажение религии, ее омертвение и поддержание в состоянии средневековой окаменелости в силу закрытия врат религиозно-правовых изысканий (иджтихада), может быть на руку лишь тем, кто, вопреки живому посланию Священного Корана, преследует целью сформировать в рамках Ислама новоявленное жреческое сословие, узурпировав монопольное право на интерпретацию религиозного Откровения.
Кораноцентристы, делающие свои богословские выводы на основании непреложных аятов Корана, не имеют и не могут иметь подобных проблем. Любое предание, независимо от его аутентичности, в случае непротиворечия Корану, может быть использовано как иллюстрация, а не как довод в пользу или в опровержение того, что уже раньше было выведено из Корана (в первом Коран не нуждается, второе же – по определению – невозможно). Выражаясь проще, если мы сталкиваемся в предании с доходчивым, детальным, образным разъяснением коранической истины, приписываемой словам самого Пророка (С), мы с удовольствием читаем ее как пояснение примера употребления аятов, не утруждая себя исследованием, произносил ли сам Пророк (С) нечто подобное в действительности, или же эти слова были приписаны ему (С) позднее: в конце концов, если Пророк (С) и не высказывал подобные благочестивые мысли, то он наверняка мог бы их произнести и, почти без сомнений, в своей душе хранил нечто подобное.
Хорошим примером может служить завоевавший популярность сборник проповедей, писем и афоризмов Имама Али (А) – «Нахдж-уль-балага»[5]. Эта книга, написанная неподражаемым по стилю и – одновременно – глубине философского содержания языком, снискала себе заслуженную славу не только в среде шиитов, особо почитающих Имама Али (А) как первого шиитского имама, но и в среде мусульман-суннитов, почитающих его (А) в качестве четвертого праведного халифа[6]. Считаясь, в свою очередь, сборником преданий (хадисов), она, тем не менее, лишена достоверно установленного иснада (цепочки передатчиков), и, хотя работа в этом направлении продолжается по сей день, существуют различные списки этого сборника (минимум шесть), допускающие разночтения, а также – имеются точки зрения по поводу анахронизмов в терминах и суждениях, нашедших отражение на ее страницах. Не вдаваясь в подробности, лишь констатируем факт: историческую роль этой книги в деле укрепления веры миллионов людей и их наставления на истинный путь, как сборника весьма благочестивых и мудрых речей, трудно переоценить. И так ли уж важно для нас, действительно ли сам Имам Али (А) произносил все эти слова или хотя бы часть из них, либо они были приписаны ему (А) впоследствии?
Ведь и сами хадисы откровенно свидетельствуют о том, что это – неважно:
Смотри на то, что он сказал, и не смотри на того, кто это сказал[7].
И сами же хадисы призывают проверять их на основании единственного непогрешимого критерия – Корана:
Со слов Пророка (С) передают, что он (С) сказал: «Если дойдет до вас от меня (какое-либо) предание[8], то сверяйте его с Книгой Аллаха, и что соответствует Книге Аллаха, то – принимайте, а что расходится с ней, то – швыряйте об стену[9].
Или, например, такое предание, которое свидетельствует о Коране не только как о непогрешимом критерии, но и как о Книге, постижимой человеческим разумом, без необходимости прибегать к посредничеству сторонних интерпретаторов, о чем мы, впрочем, знаем и из самого Корана (аят 26:2):
Передают со слов Пророка (С), что он (С) сказал: «Если дойдет до вас от меня (какое-либо) предание, то сверяйте его с Книгой Аллаха и доводами вашего разума[10], и если оно окажется в согласии с ними, то – принимайте его, а иначе – ударьте (швырните) его об стену[11].
Если не только Коран и логика, но и сами хадисы подтверждают правильность нашего отношения к ним, нужны ли еще какие-либо слова?
Тарас Черниенко,
октябрь 2025 г.
[1] Здесь и далее переводы оригинальных арабских текстов на русский язык выполнены автором.
[2] Ад-дурр-уль-мансур Джалал-уд-Дина Ас-Суйути, т. 8, с.240.
[3] Даже в подобных ситуациях – надо оговориться – данная методика позволяет отвергнуть предания с недостоверной цепочкой передатчиков как более не являющиеся подтвержденными и служащими для выведения шариатских положений. Что касается самого текста преданий и их нравственно-воспитательного значения, то даже установление факта недостоверности или слабости цепочки передатчиков ничего не доказывает в его отношении. Проще говоря: если даже доказано, что передатчики хадиса являются лжецами, это еще не означает, что само предание – ложное, и что сам Пророк (С) не произносил ничего подобного лишь потому, что этот факт не был зафиксирован по другим, заслуживающим большего доверия, каналам. Справедливо, естественно, и обратное утверждение (достоверная цепочка передатчиков может не соответствовать достоверному хадису, т.е., самым лучшим передатчикам и по множественным каналам («цепочкам») может быть приписано ложное, сфальсифицированное предание). То есть, оценка достоверности или недостоверности цепочки передатчиков относительно достоверности содержания хадиса не доказывает и не опровергает ровным счетом ничего. Не следует сбрасывать со счетов массу благочестивых изречений, находящихся в соответствии с Кораном, происхождение которых от Пророка (С), однако, остается сомнительным. Польза от этих слов, находящихся в согласии с Божественным Откровением – очевидна, даже невзирая на их сомнительный статус как хадисов. При этом велика вероятность того, что и сам Пророк (С), если и не произносил подобных слов, то мог бы или хотел бы их произнести в подходящей ситуации. Что означает, что в морально-нравственных целях применение метода «‘илм-ур-риджал» является в лучшем случае бесполезным, если не вредным, отвергая мудрые слова лишь в силу того, что они не подтверждены доверенными передатчиками. Что же касается выведения шариатских положений, то те из них, которые имеют действительно важное значение для веры и спасения души, легко выводятся при помощи Корана, как это и имело место в первые десятилетия и даже века эпохи зарождения Ислама, в том числе – в эпоху «праведного халифата», когда никакие «достоверные» сборники хадисов не имели массового хождения в народе, что, в то же время, не мешало верующим исповедовать Ислам и вести образ жизни, предписанный кораническими заповедями. Старейшие сборники хадисов – такие, как «Аль-муватта» имама Малика бин Анаса – датируются вторым столетием по хиджре (VIII век н.э.), т.е., относятся к следующему столетию после завершения эпохи так называемого «праведного халифата». Проще говоря, наиболее важные и ответственные для мусульманской общины годы прошли без циркуляции в народе сборников хадисов, а также – без формирования касты профессионального духовенства, выносящего на основании этих хадисов свои фетвы. Не было ни стандартизованного подхода к проверке аутентичности и обоснованности применения хадисов, равно как не было и общепринятых общиной (уммой) классифцированных и удостоверенных учеными авторитетами сборников. На основании единственного бесспорного источника мусульманской богословской мысли, морального кодекса, гражданского и уголовного права – Корана – община построила сильное в политическом, военном и экономическом отношении государство и поддерживала его в таком состоянии доброе столетие.
[4] В целях экономии времени и пространства мы оставляем за рамками нашего рассмотрения всю массу хадисов, в которых, к тому же, лингвистические анахронизмы также имеют место, но которые, тем не менее, оказались включенными в «авторитетные» сборники, несмотря на практику применения методологии «илм-ур-риджал».
[5] В русских изданиях – «Путь красноречия», также предлагается иной, менее буквальный, но более близкий по смыслу перевод названия – «Вершина красноречия».
[6] Ее комментаторами в разные времена были такие выдающиеся суннитские богословы, как мутазилит Ибн Аби-ль-Хадид (автор двадцатитомного комментария) в Средние века и ректор каирского университета Аль-Азхар шейх Мухаммад Абдо (автор четырехтомного комментария) в Новое время, на рубеже XIX и XX веков.
[7] Гурар-уль-хикам ва дурар-уль-килам, хадис 5048, передан со слов Имама Али (А).
[8] Т.е., такое предание, слова которого приписываются его передатчиками самому Пророку (С).
[9] «Маджма-уль-байан», т.1, с.13.
[10] Буквально по тексту – عقولکم, или – «ваших разумов», т.е., обращение идет к разуму каждого слушателя, из чего можно сделать однозначный вывод о доступности понимания Корана всякому читателю, и равно – о допустимости критики преданий на основании здравого смысла.
[11] Тафсир Абу-ль-Футуха Ар-Рази, т.5, с. 368.