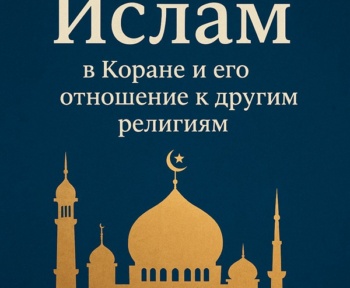Вызовы современной эпохи, бросаемые богоборцами нравственным устоям Богоцентрической концепции мироздания, заставляют задуматься о необходимости еще плотнее сомкнуть ряды братских монотеистических конфессий в противостоянии тем демоническим силам, которые всеми силами и средствами стремятся погасить огонь веры, зажженный Создателем в сердцах людей еще в тот момент, когда человек впервые обрел черты духовной личности, возвышенной над голыми природными инстинктами, покорив себе всех тварей земных благодаря именной этой отличительной особенности. Линия фронта духовного борения всегда проходит там, где душа человека готова обнаружить свою слабость, и не в последнюю очередь эта слабость проявляется в разобщении верующих по внешним признакам формы, не обращая внимания на содержание. Этой слабостью враги веры пользуются для того, чтобы цель построения общества, основанного на принципах заповеданных Творцом справедливости, нравственности и духовной чистоты никогда не была достигнута из-за привносимого извне искусственного разделения, когда разница в подходах к ее достижению выдается ими за разницу целей. Противники утверждают, что в Священных Писаниях монотеизма якобы присутствуют непримиримые друг с другом концепции, не оставляющие возможности, будучи братьями, оставаться при этом самими собой, каждый – в рамках собственной конфессии. В данной статье мы постараемся разоблачить подобные пагубные мифы, сложившиеся за долгие годы вокруг отдельных цитат из Священного Корана, порой вырываемых из контекста, а порой – превратно переведенных и истолкованных.
Наша задача – прибегая к научным методам, развенчать подобные заблуждения, и, выявив общую цель, следовать к ней сплоченными рядами, рука об руку с нашими братьями, исповедующими те же ценности, хотя и называющими их по-иному.
Таким образом, в частности, для мусульман одной из задач интерпретации текста Священного Корана является возвращение к исконному содержанию приводимых в нем понятий, не искаженному более поздними наслоениями в виде истолкований, продиктованных влиянием извне, сформировавшимися в обществе вне тела Ислама предрассудками и заведомо предвзятыми суждениями. В рамках данной статьи я приведу лишь некоторые примеры из составленного мной нового комментария к Священному Корану, который, надеюсь, с помощью Всевышнего, вскорости дойдет до широких читательских кругов в полном объеме.
Отправной точкой суждения об отношении к иным конфессиям с позиции Ислама должна, несомненно, служить расшифровка таких ключевых коранических понятий, как «дин» и «Ислам». В искаженной интерпретации «дин» передается как «религия» (часто – в значении узкоконфессиональной формы), а «Ислам» – как собственное наименование таковой, что в корне неверно и искусственно заужает подход к этим емким понятиям, затрудняя тем самым процесс взаимного братского признания и понимания между представителями различных конфессий. Устранению этого искусственного препятствия, создаваемого теми, кто заинтересован в разделении верующих по внешним признакам, не только при переводе коранических терминов на иностранные языки, но и при их смсыловой интерпретации на языке арабского оригинала (пренебрегая этимологией и общеупотребительным применением понятий на момент ниспослания текста Откровения), и должен послужить комментарий, который мне хотелось бы предложить вашему вниманию.
Итак, в самой первой («Открывающей») суре Корана мы читаем восхваление Всевышнего как «Владетеля дня «Дина»» (Коран, 1:4). Что же есть «дин» в контексте аята? Предлагаемая версия комментария звучит следующим образом:
«Использованный здесь в оригинале термин «Йауму-д-дúн» означает, вкратце, «День Суда», однако, в контексте единоличного вынесения Суждения (Вердикта) Всевышним Аллахом (без соблюдения принципа состязательности сторон). Обращает на себя внимание понятие «дúн», многократно использованное в Коране в значениях «суждение» и «суд» (как здесь), или – шире – «мировоззрение». См, напр., аят 3:19: можно перевести как «Поистине, религия у Аллаха — Ислам (Преданность (Всевышнему))», но возможно, следуя смысловому контексту, и так: «Поистине, (приемлемое) суждение (дúн) (мировоззрение) пред Аллахом есть преданность (Ему)», или, выражаясь проще, приемлемая Всевышним жизненная позиция — искренняя преданность Ему. Здесь для арабоязычного читателя имеет место та же двойственная игра смыслов, что и в примере с понятием «Раббу-л- ąáламúн» в первом аяте данной суры, которая при свободном владении языком оригинала проявляется в сознании читателя/слушателя естественно, тогда как при переводе требует дополнительного разъяснения… Мусульманское понятие «религии» (дúн) не связано этимологически с латинским глаголом religare, означающим установление обратной связи (с Творцом), как в русском и ряде европейских языков. Верующий мусульманин ищет с Господом не обратную связь, а духовный резонанс, как бы настраивая душу на нужную частоту, если прибегнуть к аналогии с радиоприемником. Эта «духовная настройка» выражается на практике в формировании должной жизненной позиции, подробно описанной в Небесных Откровениях, последним из которых, согласно вере мусульман, является Коран. То есть, религия Ислама — это и есть, по сути, путь правильного суждения — об окружающем мире и о себе, которому в Последний День придется столкнуться с ответным суждением — высшей оценкой — со стороны Творца. Соответствие или несоответствие критериям Всевышнего в конечном итоге и определяет приговор, при вынесении которого определенные допущения (снисхождения) допускаются в проявлении Божественной Милости и Милосердия.
Всевышний Господь предстает перед нами в этом аяте как Единоличный Властитель этого Дня Суда (или — Дня Суждения), на котором не будет упущена из рассмотрения ни единая мелочь (см. аят 99:6).
Слово «дúн» пришло в арабский язык из древнеперсидского. По поводу значения этого слова в священной книге зороастрийцев – Авесте – мобед д-р Педрам Сороушпур пишет, в частности: «Термин «дúн» в Авесте присутствует в форме «даэна», этимологию которого некоторые выводят от корня «да» в значении размышления и познания, однако, большинство ученых возводят происхождение корня слова «дúн» к первооснове «ди» в зачении вѝдения и рассматривания – глагола, от которого происходит слово «дидан» («видеть») в современном персидском языке» (См.: Мобед Педрам Сороушпур, Ашу Зартошт, Пайамбар-е Ирани, Тегеран, изд-во «Фаравахар», 1402 г.с.х., ISBN 978-600-7844-58-8, с.51). Сказанное позволяет допустить, что перевод термина «дúн» в значении «суждение» либо «мировосприятие» наиболее точно отражает этимологию данного слова, отвечая в полной мере как обеим означенным позициям специалистов в области авестийского языка, так и контексту данного коранического аята, в котором это слово имеет значение именно суда, а не религии. Более того, именно это понятие термина «дúн» находит свое подтверждение в контексте самого Корана, где неоднократно подчеркивается следование всех пророков и посланников Аллаха (А) «дúну» Ислама (т.е., мировоззрению, утверждающую абсолютную преданность Всевышнему Творцу). Например, в аяте 2:132 мы читаем о том, как пророки Ибрахим (А) и Йа‘куб (А) заповедали своим сыновьям блюсти «дúн» Ислама (суждение о необходимости преданности Всевышнему), т.е., это понятие существовало и оставалось неизменным испокон веков. С другой стороны, если бы понятие «дúн» имело содержание закона, собрания ритуальных и правовых предписаний, это не может быть увязано с контекстом истории пророков (А), так как все они (А), будучи хранителями «дúна» Ислама, в то же время, приносили свои законодательные нормы, отличные от предшественников (напр., пророк ‘Иса (А) явился с отменой части запретов закона Мусы (А), см. аят 3:50). Соответственно, ни «дúн», по контексту Корана, не имеет значения свода законов и правил, ни термин «Ислам» не подразумевает названия конфессии, но – определенное духовное состояние, выражающее абсолютную преданность Всевышнему Аллаху (см. аят 3:19 и соотв. примечание к нему). Таким образом, понятие «мусульманин» («муслим», «преданный (Всевышнему)») распространяется на искренних последователей всех религий Откровения, всех пророков (А) Аллаха без исключения. Все они, независимо от формального наименования конфессии, являются братьями в служении Творцу.»
Простой лингвистический анализ позволяет легко продемонстрировать веротерпимость Корана как послания братства верующих, призванного объединять, а не разделять. В этой связи уместно процитировать и другие аяты (комментарии к которым мы для удобства восприятия вынесем в сноски), например:
(2:62): Поистине, те, которые уверовали, и которые стали иудеями, и христиане, и сабии[1], кто уверовал в Аллаха и в Последний День, и совершал праведные деяния, для них — вознаграждение у их Господа, и страх не довлеет над ними[2], и они — не печалятся[3]
(2:112): Конечно же, кто предал лик свой[4] Аллаху, и он — благодетелен[5], ему — награда у его Господа, и страх не довлеет над ними, и они – не печалятся
(46:13): Поистине, те, которые сказали: «Господь наш – Аллах[6]!», а затем держались этого, – не довлеет над ними страх, и они – не печалятся
Отдельно следует сделать оговорку по поводу содержания понятия «Ислам», как оно раскрывается перед нами в контексте Корана:
(2:132):И завещал это Ибрахим своим сыновьям, и Йа‘куб: «Сыны мои, поистине, Аллах избрал для вас (верное) суждение[7], так не умирайте иначе, как будучи предавшимися (Ему)[8]»
(3:19): Поистине, (приемлемое) суждение[9] пред Аллахом есть преданность (Ему)[10], и не разошлись (во мнениях) те, кому дано писание, иначе, как после того, как явилось им знание, в (несправедливом) посягательстве друг на друга[11]…
Самым красноречивым подтверждением высказанной здесь концепции является, пожалуй, переданное в Коране признание самих верующих, которые, по их собственным словам, были мусульманами (в значении «преданными Всевышнему») еще до того, как он (т.е., Коран) был впервые зачитан им (а ниспослание Корана продолжалось последовательно на протяжении 23 лет, и весь этот период времени ни Коран не был собран в единый список, ни конфессия Ислама не была окончательно оформлена):
(28:53): И, когда (он) зачитывается им, говорят: «Мы уверовали в него, несомненно, он есть Истина от Господа нашего, поистине, мы являлись (и) прежде сего предавшимися (Всевышнему)[12]
Как следствие, естественным образом Коран дипломатично обходит вопросы догматических несоответствий между Исламом и Христианством, обращая свою критику исключительно в адрес еретических сект, а не основных конфессий. Это легко проследить, анализируя содержание соответствующих аятов, которые надлежит рассматривать во взаимной связи, как дополняющие и поясняющие друг друга. Несмотря на то, что на первый взгляд может показаться, что данная критика направлена именно в адрес канонического Христианства, привлечение сопутствующих аятов вкупе с лингвистическим анализом позволяет без труда развенчать подобное заблуждение:
(19:88-93):
88. И скажут (некоторые): «Взял (Себе) Всемилостивый сына».
89. Поистине, явили вы вещь неслыханную!
90. Готовы небеса расколоться от этого и разверзнуться земля, а горы – рухнуть обломками,
91. От того, что они приписали Всемилостивому сына.
92. И не пристало Всемилостивому брать (Себе) сына.
93. Поистине, всякий, кто в небесах и земле – не иначе, как являющийся ко Всемилостивому рабом
Приведем теперь комментарий к последнему в данной группе аятов:
««Рабом» – в почетном смысле этого слова, т.е., исполнителем Воли Всевышнего, будучи бесконечно малым по сравнению с Ним. «Являющийся» – в значении «Предстающий перед Ним», более буквально – «Приходящий к Нему». Иными словами: любые действия, осознанные или неосознанные, живого существа, и любые процессы, происходящие в неживых творениях, являются проявлениями Воли Божией, в том числе – и осознанные действия, направленные против исполнения Его заповедей, так как относительная свобода выбора (в рамках пространственно-временной системы сотворенной имманентной реальности) также дарована по Его Воле и наряду с этим вписывается также в представление об абсолютном Божественном предопределении на уровне Трансцендентной реальности.
Характерно, что древнегреческое слово παῖς используется в апокрифических евангелиях по отношению к Иисусу (А) в значении как «дитя», так и «раб» в почетном смысле «раб Божий» (см.: Апокрифы древних христиан, под ред. А.Ф.Окулова и др., ISBN 5-244-00269-4, М., «Мысль», 1989, часть I (д.и.н. И.С. Свенцицкая), с.36). Вероятно, в том числе и это обстоятельство могло создать определенную путаницу в среде первых христиан, для устранения которой и были ниспосланы аяты 19:88-93, во избежание превратного толкования понятия «сыновства Божия» через земные представления, уподобляющие это сыновство земному рождению в браке. Что касается самого понятия «сын Божий», то в значении «любимый (подобно сыну) раб Божий», «праведник (исполняющий заповеди Божии, как сын исполняет наказы отца)», то это понятие было широко распространено и принято в иудейской среде ко времени явления Иисуса (А). Так, в Евангелии от Иоанна (8:41) оппоненты Иисуса (А) открыто заявляют о том, что их Отец – Бог, и в том же Евангелии от Иоанна, в самом начале текста (1:12-13), уже сам апостол заявляет, что преданные христиане могут по праву именовать себя детьми Божиими (Мысль повторяется также в 1-м послании апостола Иоанна, 3:1), в духе Нагорной проповеди Иисуса (А), который особо именует таковыми миротворцев (Евангелие от Матфея, 5:9), и – что примечательно – тем самым не претендует на исключительное право обладания подобным титулом. Таким образом, это понятие уже в новозаветных текстах (как канонических, так и апокрифических) обозначает – в широком смысле – человека праведного, живущего по заповедям Божиим, и в этом смысле не противоречит ни древнему Единобожию, ни посланию Священного Корана. Следут при этом особо подчеркнуть, что в данной рассматриваемой нами группе аятов (19:88-93) в очередной раз Коран критикует не представления Христианства, толкующего понятие «сын Божий» в высоком духовном смысле (в том числе, и в свете представления о Триипостасном Боге, хотя такое представление и не свойственно учению Корана), а, прежде всего, учения еретических сект, представлявших себе рождение Богом сына наподобие земного рождения, от брака с земной женщиной, находясь под влиянием мифов о языческих богах, имевших потомство на земле. Несмотря на то, что идея Триипостасного Бога не вписывается в кораническую парадигму, ее глубокое философское понимание главными течениями Христианства ставит последнее, вне всякого сомнения, в ряд братских Исламу монотеистических воззрений.»
Это толкование целесообразно дополнить следующим аятом:
(5:116): И когда скажет Аллах: «О, ‘Иса, сын Марйам, ты ли сказал людям: «Возьмите меня и мать мою за двух богов помимо Аллаха»?[13]», он скажет: «Преславен Ты! Не пристало мне говорить то, на что у меня нету права!..»»
В данном случае мы сталкиваемся с очередным примером того, как «…Коран критикует еретические воззрения одной из многочисленных околохристианских сект, последователи которых, современные Пророку Мухаммаду (С), превратно понимали учение Христианства (об аналогичном превратном понимании учения Иудаизма некоторыми околоиудейскими еретическими сектами см. аят 9:30). Коран не совершает нападок на Христианство, как на религию Истинного Небесного Откровения, но резко противится сектантским домыслам, привнесенным в нее людьми по их собственному разумению (см. также аят 4:171 и примечание к нему, относящееся к числительному «три»). В частности, подобные секты, привносящие искаженное понимание в учение Иисуса (А), могли возникнуть уже задолго до Пророка Ислама (С), под влиянием, например, египетских мистерий (ср. с египетской триадой Озирис – Изида – Хор). С другой стороны, маловероятно, чтобы подобная секта существовала уже во времена Иисуса (А), когда Христианство представляло собой, в основном, небольшую общину апостолов под его (А) непосредственным пуководством. Люди, находившиеся вне общины, и, в то же время, бывшие под впечатлением как от проповеди Иисуса (А), так и от иноземных учений (египтян, эллинов), пользовавшихся популярностью в Римской империи и пришедших в Палестину вместе с оккупационными властями, могли, в свою очередь, организовать подобные секты.»
Как уже неоднократно упоминалось выше, идея Триипостасного Бога не свойственна учению Корана. Тем не менее, в ее канонической форме она не подвергается (вопреки расхожему мнению) уничижительной критике и не препятствует воплощению идеи братства между мусульманами и христианами. Обратимся к упомянутому выше аяту 4:171 и приведем соответствующий комментарий:
(4:171): О, люди писания, не чрезмерствуйте в вашем суждении[14] и не говорите про Аллаха ничего, кроме истины, – поистине, Мессия ‘Иса, сын Марйам, – посланник Аллаха и Его Слово, которое Он направил к Марйам, и Дух от Него, – так уверуйте в Аллаха и Его посланников, и не говорите: «три»
«Три» – ключевое слово, необходимое нам для понимания того, в чей именно адрес обращена кораническая критика, как указано в предлагаемом вашему вниманию комментарии:
«В смысле: «не говорите: «три бога»». Так – в оригинале (именно числительное «три», а не понятие «Троица», для которого в арабском языке имеется самостоятельное слово), в связи с чем логично сделать вывод о том, что, в первую очередь, Коран полемизирует не с последователями Христианства, а с теми, кто превратно истолковывает христианское учение (напр., неверно понимая догмат о Троице как поклонение трем самостоятельным богам). Этот же вывод подтверждается и рядом последующих моментов в тексте Корана, где критикуются именно еретические с точки зрения как Христианства и Иудаизма, так и Ислама мировоззрения (напр., аяты 5:116, 9:30, см. также примечания к ним).»
Связанный с приведенными выше аят 9:30 также обращает наше внимание на подобные обстоятельства краткие примечания вынесены в сноски):
(9:30): И сказали иудеи: «‘Узайр – сын Аллаха»[15], и сказали христиане: «Мессия – сын Аллаха»[16], это – речение их собственными устами, (кое) они уподобляют речам тех, которые проявили неверие раньше, – да разразит их Аллах, до чего же они поддаются измышлениям
Связанные с рассмотренными другие аяты не оставляют сомнений в справедливости предложенных вариантов истолкования:
(6:101): Созидатель небес и земли! Откуда у Него сын, если не было у Него спутницы? И Он сотворил каждую вещь, и Он обо всякой вещи Сведущ
Единственный логичный комментарий, который здесь напрашивается сам собой: «См. процитированный выше аят 19:93 и примечание к нему. Коран критикует примитивное представление о рождении Богом детей наподобие земного рождения, от связи с земной женщиной, каковое представление было весьма распространено в языческой мифологии. Ср.: также аят 72:3».
В свою очередь, в аяте 72:3 мы читаем следующее:
(72:3): И (свидетельствуем), что Он – Превознесенно Величие Господа нашего! – не избирал Себе ни спутницы, ни ребенка
Где со всей очевидностью понятия «спутницы» и «ребенка» отсылают нас к языческим концепциям, чуждым философского содержания понятия христианской Троицы. Именно они и подвергаются критике, в более развернутом виде – в контексте другого аята, предшествующего процитированному выше аяту 6:101, находящегося с ним в несомненной взаимосвязи и не оставляющего никаких сомнений в том, что указание здесь делается именно на древнюю языческую мифологию и попытки заимствования из нее и проведения аналогий:
(6:100): И сделали они Аллаху соучастниками джиннов, – а ведь Он сотворил их[17]! – и измыслили для Него сыновей и дочерей без знания (об этом), – Преславен Он и Превознесен над тем, что они описывают!
И далее – уже приведенный нами ранее аят:
(6:101): Созидатель небес и земли! Откуда у Него сын, если не было у Него спутницы?
Упоминание в этой группе аятов во множественном числе о «сыновьях» и – тем более – «дочерях» Всевышнего, несомненно, относит нас к представлениям арабских языческих племен периода так называемой джахилии (период «невежества», как принято обозначать эпоху, предшествующую явлению коранического Ислама с приходом последнего Пророка и Посланника Всевышнего Мухаммада (С)).
Этими словами можно было бы и завершить наши рассуждения, благо на базе приведенных доводов вполне четко просматривается однозначный вывод. Однако, более уместным будет найти окончательный вывод в самом Коране, не оставляющий никакого пространства для споров и сомнений.
(2:62): Поистине, те, которые уверовали, и которые стали иудеями, и христиане, и сабии[18], кто уверовал в Аллаха и в Последний День, и совершал праведные деяния, для них — вознаграждение у их Господа, и страх не довлеет над ними, и они — не печалятся
Как следствие:
(49:10): Поистине, верующие – братья, так исправляйте отношения ваших братьев друг с другом и остерегайтесь Аллаха, дабы могла быть вам оказана Милость
После этой конкретной заповеди Всевышнего действительно нечего добавить, кроме пожелания читать Слово Божие со вниманием, вникать в его смысл и не позволять никому ввести себя в заблуждение его искаженным толкованием. Пребудем же вовек, оставив второстепенные споры и мнимые расхождения, братьями ради Бога Всевышнего!
Тарас Черниенко
26.05.2025 г.
[1] Речь идет об уверовавших в Единобожие, сначала — просто как доктрину, затем — в различные Откровения, ниспосланные с пророками (А) от Всевышнего. Что касается общины сабиев, то к таковым причисляет себя община мандеев в современном Ираке — последователей монотеистической синкретической религии, вобравшей в себя элементы Христианства, Иудаизма, гностицизма, древнеперсидской философии и проч. (см.: E.S. Drower, The Secret Adam, A Study of Nasoraean Gnosis, Oxford University Press, 1960, c. ix).
[2] Буквально – «нет страха над ними», однако, такой перевод имел бы смысловой оттенок: «им ничто не угрожает (извне)», тогда как по контексту аята видно, что речь идет о внутреннем, душевном состоянии. С другой стороны, присутствие в оригинальном тексте предлога «над» не позволяет перевести более простым выражением «у них нету страха», или – «в них нету страха». Поскольку, несомненно, в этом также заключен определенный смысл, выражение «страх не довлеет над ними» представляется наиболее адекватным вариантом перевода.
[3] Специфика арабского языка, в частности, состоит в том, что события будущего могут выражаться формой настоящего времени, более того — события, которым неизбежно предстоит произойти в будущем, выражаются формой прошедшего времени. Из контекста аята ясно, что речь идет о прежних поколениях уверовавших, следовательно, употребление настоящего времени в отношении них оправдано по двум причинам: 1) Их участь на момент ниспослания аята была уже решена Всевышним, т.к. они к тому времени покинули этот мир (в отличие от 2:38, где обсуждается возможная участь будущих поколений); и 2) Загробное бытие, как мир Трансцендентного, не подчиняется законам пространства и времени нашего мира, следовательно, говоря о загробной участи, категория настоящего времени, как более универсальная по смыслу, является более уместной, нежели категория будущего времени. Также следует отметить, что в оригнале здесь употреблено именно настоящее (или «настояще-будущее») время.
[4] Т.е., кто полностью препоручил себя Аллаху, от глагола «’аслама» – «вручать» или «препоручать», отсюда же – и название религии Ислам – «Преданность (Всевышнему без остатка)».
[5] Т.е., совершающие благие дела.
[6] Здесь следует особо подчеркнуть, что слово «Аллах» в арабском языке не является собственным именем Бога, а обозначает Единого Бога-Творца. Этим словом пользуются все арабоязычные верующие – не только мусульмане, но и христиане, иудеи, мандеи и т.д. Данный аят является ярким примером братского коранического отношения ко всем искренне верующим в Единого Создателя.
[7] Или – «мировоззрение», араб. – «дúн» (см. примечание к аяту 4 суры 1, где раскрывается значение этого термина).
[8] Значение, вкладываемое в понятие «мусульманин» (в арабском оригинале здесь стоит слово «муслимúн», которое также можно перевести как «мусульманами», а не «преданными», однако, это сужает контекст сказанного, т.к. речь здесь идет именно о духовном состоянии Ислама (т.е., абсолютной и безраздельной преданности Всевышнему), а не о конфессии). Подробнее – см. примечание к аяту 3:19.
[9] О значении понятия религии в Исламе как суждения (мировоззрения) см. примечание к аяту 1:4.
[10] О значении понятия Ислама как преданности Всевышнему, а мусульман — как преданных Ему безраздельно, см. аяты 1:4 и 2:132 и примечания к ним. В пользу отказа в переводе от слова «Ислам» (в узкоконфессиональном понимании) говорит историчсекая действительность в контексте самого Корана. С одной стороны, в Коране рефреном звучит мысль о том, что Откровение Ислама было послано в поддержку правдивости предыдущих Небесных Откровений, в частности — Священных Писаний Иудаизма и Христианства (Торы и Евангелия), – см.,, напр., 3:3-4. Новое Откровение — Коран — было ниспослано для исправления ошибок толкователей прежних религий, дабы отделить зерна истины от последующих наслоений посредством критерия Различения, в качестве какового Коран и представлен в аяте 3:4, что, в свою очередь, ни в коем случае не отменяет исконной истинности религий Откровения в силу их Божественного происхождения. Более того, прежние религии должны были оставаться не просто истинными, но и единственно истинными даже в начальный период истории Ислама для тех племен и народов, куда попросту не успела дойти новая истина Откровения Корана. Вечное наказание несведущих о новом Откровении иноверцев, попросту не успевших узнать о появлении нового Писания, пребыванием в аду наряду с теми, кто, узнав о нем, сознательно отверг его, шло бы вразрез с принципом Божественной Справедливости. При этом, только что, буквально в предыдущем аяте (3:18), было сказано о Всевышнем: «… будучи Вершащим справедливость», по отношению ко всему и ко всем, ибо текст аята не делает никаких оговорок для исключения из этого правила. Следовательно, Всевышний по Своей Справедливости не судит людей на основании их формальной принадлежности к определенной конфессии. Итак, речь в последующем аяте (3:19) идет явно не о конфессии Ислама (которая, по сути, еще продолжала формироваться даже в мединский период ниспослания суры «Аали ‘Имран» и никак не могла быть провозглашена в качестве единственно приемлемой для всех людей мира, в т.ч. – жителей отдаленных уголков Земли), а о духовном состоянии Ислама — как безраздельной преданности Всевышнему, характерной для искренних последователей всех Небесных религий Откровения. Подтверждение этому мы находим в словах следующего аята (3:20): «…и если предались, то они уже — наставлены (на истинный путь)». Отсюда же, наиболее корректным представляется говорить о «религии» (араб. – «дúн») именно как об образе суждения, а не о наборе религиозных практик, – подробнее об этом см. примечание к аяту 1:4. О распространении понятия Ислама как преданности Всевышнему на всех последователей небесных Откровений красноречиво повествует аят 28:53, в котором они упоминаются как «преданные» (мусульмане), пребывавшие в таком состоянии, по их собственному свидетельству, еще до ознакомления с Откровением Корана.
[11] Явившееся знание – не иначе, как Различение истины от наслоений, о котором говорится в аяте 3:4. Приверженные внешней букве писаний отвергали единство их духа, тогда как прозорливые сумели его увидеть. Так проявилось разделение между приверженцами духа религии и буквалистами.
[12] Т.е., мусульманами (араб. – муслимúн, в значении преданных, предавшихся Господу). Коран расширяет понятие всецелой преданности Воле Всевышнего на всех последователей небесных религий Откровения как последователей единого продиктованного Создателем суждения (мировоззрения), упоминаемого в аяте 3:19.
[13] Очередной пример того, как Коран критикует еретические воззрения одной из многочисленных околохристианских сект, последователи которых, современные Пророку Мухаммаду (С), превратно понимали учение Христианства (об аналогичном превратном понимании учения Иудаизма некоторыми околоиудейскими еретическими сектами см. аят 9:30). Коран не совершает нападок на Христианство, как на религию Истинного Небесного Откровения, но резко противится сектантским домыслам, привнесенным в нее людьми по их собственному разумению (см. также аят 4:171 и примечание к нему, относящееся к числительному «три»). В частности, подобные секты, привносящие искаженное понимание в учение Иисуса (А), могли возникнуть уже задолго до Пророка Ислама (С), под влиянием, например, египетских мистерий (ср. с египетской триадой Озирис – Изида – Хор). С другой стороны, маловероятно, чтобы подобная секта существовала уже во времена Иисуса (А), когда Христианство представляло собой, в основном, небольшую общину апостолов под его (А) непосредственным пуководством. Люди, находившиеся вне общины, и, в то же время, бывшие под впечатлением как от проповеди Иисуса (А), так и от иноземных учений (египтян, эллинов), пользовавшихся популярностью в Римской империи и пришедших в Палестину вместе с оккупационными властями, могли, в свою очередь, организовать подобные секты. Однако, без прямого пророческого вдохновения и не имея фундаментальной теоретической базы, будучи построенными исключительно на эмоциях и аналогиях, такие секты практически наверняка оказались бы нежизнеспособными и не заслуживали бы отдельного упоминания в Коране. Эти рассуждения также приводят нас к выводу о том, что, как уже было указано в предыдущем комментарии, аяты 116 – 119 данной суры относятся к событиям Судного Дня, когда будет проведено разбирательство о том, как последователи ниспосланных Всевышним пророков (А) хранили их заветы и насколько точно следовали принесенному ими (А) учению.
[14] О значении использованного в оригинале термина «дúн» как «суждения» см. подробное примечание к аяту 1:4.
[15] Очередной пример того, как Коран критикует учение некоторых еретических сект, не затрагивая при этом фундаментального учения братских религий Откровения, ниспосланных, как и Коран, от Единой Истины. Ср.: аят 5:116, см. также примечание к нему.
[16] Данная критика, со всей очевидностью, относится не к учению Христианства в целом, а к превратному пониманию понятия «сын Божий», которое допускали некоторые еретические секты. К такому выводу нас приводит рассмотрение данного и предыдущего аята в связке с другими аятами: 4:171, 5:116, 6:101, 19:93 и 72:3.
[17] Т.е., джинны ведь сами являются творениями Аллаха, каким же образом они могут быть при этом Его сотоварищами?
[18] Из контекста очевидно, что обособленное упоминание иудеев, христиан и сабиев не являет собой исчерпывающий список, поэтому ему предшествует упоминание обо всех уверовавших последователях всех ниспосланных Всевышним истинных пророков (А).