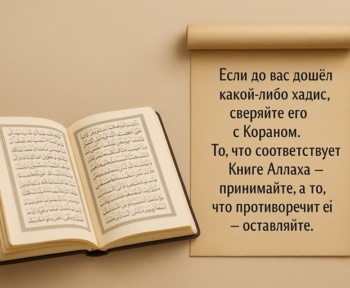Сторонники недопустимости использования верующими собственного разума (акль) для истолкования (читай — понимания) коранических аятов обычно приводят в подкрепление своей позиции седьмой аят третьей суры «Аали Имран» Священного Корана, а также — некоторые хадисы, в которых, однако, говорится о недопустимости толкования Откровения Вевышнего через собственное мнение или усмотрение (араб. – ра-й), но не через разум (акль), не говоря уже о сомнительности доказательств, приводимых в пользу достоверности того или иного хадиса, что требует отдельного хадисоведческого исследования.
Давайте рассмотрим дословный перевод аята с опорой на книги по муфрадат-уль-Куран и расставляем все по местам. Оригинальный текст гласит:
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ
Он – Тот, Который ниспослал тебе Книгу, в ней (заключены) аяты ясные, они – Матерь Книги, и другие – иносказательные. Что до тех, в сердцах которых болезнь, то они взыскуют того, что высказано иносказательно (ташабаха – в прошедшем времени – Т.Ч.) в нем, стремясь к смуте и желая его та-виля (специально оставлен термин без перевода – Т.Ч.), – а не ведает та-виля его никто, кроме Аллаха и укорененных в знании, говорят они: уверовали мы в него. Целиком (он, Коран) – от Господа нашего, и не вспоминают о том никто, кроме обладателей разума.
(Коран 3:7) – в аяте, кстати, ни слова не сказано в том смысле, на который намекают сторонники примата хадисов в науке тафсира – дескать, Книга Аллаха – настолько сложна для понимания, что единственный путь ее постижения лежит через хадисы!
***
Слово “та-виль” имеет очень сложный и глубокий смысл, хорошо раскрытый алламе Табатабаи в 3-м томе тафсира “Аль-мизан” в комментарии к данному аяту. Кратко можно выразить его как “возведение производного утверждения к исходному смыслу”. Мы говорим: Дорога ложка к обеду. Та-вилем этой фразы будет: своевременность действия. Ложка – производный иносказательный образ (муташабих). Та-вилем производной функции по идее должна быть ее первообразная, искомая через взятие интеграла. Этимология слова восходит к понятию “авваль” — “первый”.
Абсолютно укорененными в знании являются наши Имамы (А), бесспорно. Однако, это качество как приобретенное (муктасаба) доступно каждому верующему, подобно приобретенной непогрешимости (аль-исмат-уль-муктасаба, в отличие от “аль-исмат-ут-таквинийа”). Поэтому всем “обладателям разума” и надлежит задействовать его в понимании Корана и постижении его скрытых смыслов.
Иными словами, в Коране говорится о следующем: горе последовавшему за иносказательным, претендующему на понимание, выдавая свое личное усмотрение остальным за истину, но на самом деле – не постигающему смысла.
И теперь остановимся на слове “усмотрение”.
Что касается приведенных оппонентами хадисов, то, даже согласившись безоговорочно принять их достоверность, мы видим, что они не имеют никакого отношения ни к постижению Корана собственными разумами (албаб), ни собственным интеллектом (акль). Хадисы предостерегают от толкования Корана как раз по собственному усмотрению (ра-й), выдавая его за истину при любых обстоятельствах. То есть, не проводя разумного анализа и сопоставления аятов, человек говорит: “я считаю…” – и этого для него достаточно.
Проще говоря, Коран предостерегает нас от того, чтобы подстраивать его толкование под уже сформированное заранее личное мнение.
Несомненно, такая практика – порочна, ведет к искаженному пониманию смысла и готовит искажающему его место в аду. Но сказанное никак не противоречит тому, чтобы человек вместо УСМОТРЕНИЯ имел собственное СУЖДЕНИЕ, подкрепленное доводами из той же Книги Аллаха или – рациональными выводами.
В противном случае выходит, что Книга Аллаха написана лишь для узкой группы избранных понимающих людей.
В таком случае – какую пользу несут в себе коранические слова, обращенные в адрес язычников, с призывом размышлять над аятами, ибо они написаны простым и ясным языком?
Всевышний четко сказал в Своем послании, приводя контрдовод в полемике с язычниками, обвинявшими Посланника Аллаха (С) в сочинительстве коранических текстов:
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ
И ведомо Нам, что они говорят: «Учит его (Посланника) человек». Язык, того, на которого они указывают, – иноземный, а это — язык арабский, ясный
(Коран, 16:103)
Спрашивается: какая логика в подчеркивании Всевышним факта ниспослания Откровения Корана на понятном, ясном для окружения Пророка (С) арабском языке, если, в конечном итоге, текст Корана остается далеким от постижения разумом? Будь он даже ниспослан на неземном языке ангелов и джиннов, или на любом не знакомом мекканцам языке, с точки зрения ясности текста это не имело бы в таком случае никакой разницы!
Исторически, в первую очередь, Коран был обращен непосредственно к окружению Посланника Аллаха (С), был ниспослан для лучшего понимания на его родном языке и родном диалекте (с вариантами произношения сообразно диалектам близлежащих местностей – чтение по Хафсу, Варшу и т.д.). А это окружение – не следует забывать – было языческим!
Миссия пророческого призыва начиналась с того, что Пророк (С) призывал язычников уверовать, зачитывая им Коран и распространяя из уст в уста отрывки из сур и аятов. Обстановка в Мекке начала Призыва была такова, что даже произнесение коротких сур в публичных проповедях было сопряжено с немалой опасностью, поэтому мекканские суры столь лаконичны. Значит, тем более, мы вряд ли можем допустить, что Посланник Аллаха (С) прибегал к помощи каких-то пространных тафсиров (экзегезы) или какой-то иной сунны, помимо Сунны Аллаха, выраженной в самом тексте Откровения. Нет, и еще раз нет! В первые дни Ислама миссия Пророка (С) заключалась в том – и только в том – чтобы обращаться к язычникам словами Корана, призвав их уверовать после размышления над аятами и постижения их смысла собственным разумом. Брать какое-либо толкование у Ахл-уль-Бейт (А) у них не было никакой возможности, как и в последствии у многих мединцев даже в период относительного спокойствия первого исламского государства. Всевышний же говорит:
أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ
Ужели они не поразмыслили над речением (Всевышнего)? Или пришло к ним (в Откровении) то, что не являлось отцам их первым (т.е., их праотцам)?
(Коран, 23:68)
Имеются в виду современники Пророка Мухаммада (С) — арабы-язычники, иудеи и христиане, в среде которых были в ходу истории о прежних пророках, в том числе — арабских «национальных» пророках, таких, как Салих (А), Худ (А), Шуъайб (А). То есть, обращаясь к людям, Всевышний призывает их, принимая во внимание предельную ясность изреченных аятов, самим сравнить их с ниспосланным в предыдущих Откровениях. Речь — подчеркнем — идет о тех, кто еще не проникся верой. Следовательно, к этой категории лиц было бы совершенно бесполезно обращать непонятные разуму аяты с тем, чтобы впоследствии призывать постигать их через пространные тафсиры. Даже если среди слушателей и нашлись бы пытливые желающие поступить именно так, они в любом случае не смогли бы по этой логике сопоставить речение Всевышнего с древними традициями. В лучшем случае они бы сказали Посланнику Аллаха (С): «Твое толкование подходит к тому, что было явлено нашим праотцам». Но речь идет как раз о «явленном» (Откровении), а не о «рассказанном» (тафсире). Вот — подтверждение тому от Самого Всевышнего:
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا
Ужели они не поразмыслят над Кораном? Или на сердцах их — замкИ?
(Коран, 47:24)
Еще один важный момент. Раз Коран ниспослан не только для верующих, но и для тех, кто еще собирается уверовать, то для них Непорочные (А) пока – не авторитет, они просто взяли в руки Книгу, чтобы прочесть. И если допустить правильность хадиса о том, что “…нет ничего более далекого от разума людей, чем Коран” (Васаиль-уш-шиа, т. 27, стр. 204) в буквальном понимании этих слов, по логике выходит, что разумные люди вообще никогда не должны уверовать! Всевышний же говорит нам о Коране и о Пророке (С) его (С) устами:
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ
Скажи: Я не говорю, что у меня — сокровищницы Аллаха, и не знаю я Сокровенного, и не говорю я вам: «я — ангел». Поистине, я следую лишь за тем, что внушается мне. Скажи: сравнятся ли слепой и зрячий? Ужели вы не поразмыслите (татафаккарун)?
(Коран, 6:50)
Тем самым, сам Посланник Аллаха (С) представляется в этом аяте лишь следующим Откровению наряду с другими верующими, и его (С) превосходство заключается лишь в том, что он (С) в своей непогрешимости воплощает образец идеально чистого следования, к которому не примешиваются ни эгоизм, ни корыстолюбие. Благодаря чистоте помыслов и искренности веры Пророка (С) его знание Книги Аллаха является совершенным, но и остальные люди не ограждены от него, имея возможность, очистив помыслы, постигать Откровение путем размышления.
И, конечно же, окончательным утверждением необходимости задействования личного разума в постижении Корана служит второй аят суры 12 («Йусуф»), который гласит:
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
Поистине, Мы ниспослали его Кораном арабским, чтобы вы постигали его разумом (араб. – таъкилун, от корня ЪКЛ образовано и слово ъакл (читается — акль), означающее «разум»)
Что может быть выражено яснее и какие хадисы можно осмелиться противопоставить этому ясному призыву Всевышнего Аллаха? Поистине, не сравнятся между собою слепой и зрячий!
Эта и схожие с нею мысли рефреном проходят сквозь весь текст Откровения, в частности, Всевышний обращается в Своей Книге не только к Посланнику (С), но и непосредственно к самим сомневающимся:
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا
Ужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем множество противоречий!
(Коран, 4:82)
Обратим внимание на тот момент, что Всевышний призывает размышлять непосредственно над текстом Корана, а не над толкующими его преданиями ради постижения смысла. Всевышний говорит об отсутствии противоречий в самом тексте Откровения. Никакие иные тексты не являются предметом рассмотрения аята. Более того: будь эти тексты непостижимыми для простого разума верующего, тогда, в результате различных интерпретаций, он, несомненно, обнаружил бы в Коране множество «противоречий», благодаря перетолкованиям. И в этом случае брошенный Всевышним вызов было бы логичнее сформулировать так: «Ужели они не поразмыслят над достоверными преданиями — ведь они доказывают, что в Книге Аллаха нет противоречий». Впрочем, подобная цепочка рассуждений не принесла бы в итоге никаких благодатных плодов, поскольку лишь Книга Всевышнего Аллаха по Его же слову защищена от погрешностей, но никак не хадисы — следовательно, логическая стройность достоверных преданий, не защищенных Всевышним и написанных рукой человеческой, как единственное доказательство истинности Откровения, свела бы на нет ценность ниспослания Последнего Писания, призванного исправить ошибки, закравшиеся в предыдущие Писания в силу множественности переводов и перетолкований. В этой ситуации самих логически стройных достоверных хадисов было бы довольно в качестве Писания, Коран как таковой утратил бы свою актуальность. Но история и современная практика свидетельствуют об обратном: именно субъективная вера в истинность Корана стала определяющим фактором для большинства сделавших выбор в пользу Ислама. И это — при условии, что мы оставляем в стороне вопросы о противоречивости и логической нестройности множества хадисов, а также — об отсутствии объективного критерия, с абсолютной вероятностью доказывающего их достоверность.
Ахбаритская логика (логика сторонников хадисов как единственно возможного средства постижения смысла Корана) в рассуждениях о Коране сводится к следующему: 1. Аллах ниспослал Откровение в Книге и обещал сделать ее неприкосновенной. 2. При этом Книга Аллаха – настолько непонятна, что простому смертному ее своим разумом не постичь. 3. Для постижения Книги Аллаха нужны хадисы от Непорочных Имамов (А), т.к. знание Книги – только у них. НО возникает новая проблема: 4. Хадисы не являются неприкосновенными, проверить их достоверность практически невозможно. 5. Формулировки хадисов в любом случае не столь непогрешимы, как Коран, и тоже, в свою очередь, требуют интерпретации другими хадисами, также не защищенными от погрешностей. В результате выстраивается целая иерархия не защищеных от погрешностей текстов ради постижения одного непогрешимого Корана. Получается, Всевышний не смог ниспослать раз и навсегда ясного и понятного Откровения? Нет, Он превыше этого!
Таким образом, порушенная логика «хадисников» по отношению к Корану сводится к следующей цепочке рассуждений: Получается: Коран надо понимать через хадисы, потому что (по мнению ахбаритов) на это намекает сам Коран, который, однако, нам не понятен, включая и этот самый намек, но через хадисы мы понимаем, что Коран намекает именно на то, чтобы понимать его через хадисы… Логический тупик.
Выход же из тупика подсказан нам Всевышним Аллахом в Его словах:
كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ
Книга, что ниспослали Мы тебе — Благословенная, да поразмыслят над знамениями (аятами) ее и да вспоминают обладатели разума (араб. – албаб)
(Коран, 38:29)
Таким образом, все слова, характеризующие процесс постижения Корана собственным разумом, и близкие к ним посмыслу — такие, как тааккуль — постижение разумом, тафаккур — размышление, тадаббур — раздумывание, были приведены Создателем к сведению обладателей разума (ули-ль-албаб). Поистине, обладателям разума не потребуется более ясного доказательства, и да наставит нас всех Всевышний Аллах на прямой путь!
(с) Тарас Черниенко